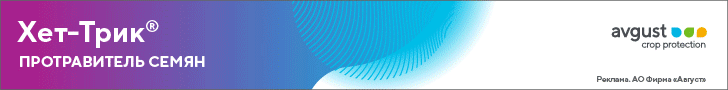Директор центра "Биоинжиниринг" академик Константин Скрябин считает: нужно приложить чудовищные усилия, чтобы суметь не заработать на биотехнологиях
— Начнем с мировой конюнктуры НТП. Информационные технологии сильно разочаровали инвесторов. С биотехнологиями дела обстоят получше, но тоже не блестяще. Не ждет ли эту сферу участь IT?
— Я профессионально занимаюсь генетической инженерией и молекулярной биологией. Для меня очевидно, что проблемы двадцать первого века — это прежде всего питание, энергетика, здоровье и социальные технологии. Последнее, конечно, очень важно. Если человечество не построит нормальную социальную структуру, то погибнем все вместе. Через пятьдесят лет нас на Земле будет двенадцать миллиардов, и только один из них будет "золотым". Представляете себе одиннадцать миллиардов полуголодных людей, не допущенных к благам цивилизации? Во избежание апокалипсиса их придется удовлетворить (альтернативы вроде стерилизации или утилизации человечество уже проходило — ничего хорошего). Вот чтобы их всех вылечить, накормить, обогреть, и нужны биотехнологии.
— И обогреть? То есть вы хотите сказать, что биотехнологии помогут решить и энергетические проблемы?
— Да. Термояд и ветер — это не быстрые решения. Самый правильный способ "фиксировать" солнечную энергию — фотосинтез. Правда, чтобы эффективно использовать Солнце с помощью растений, последние нужно немного переделать.
— А как электроэнергию из них получать?
— Представьте, что у вас будет растение, которое растет в двадцать раз быстрее обычного. Вы получаете из него много целлюлозы, из целлюлозы — спирт, а спирт используете в качестве энергоносителя вместо, скажем, нефти. На лабораторном уровне уже отработано пятнадцать-двадцать таких сценариев.
— Как обогреть, положим, понятно. А накормить как?
— Упомянутым одиннадцати миллиардам нужно предложить гармоничное питание. Нужно создать растения, которые будут содержать весь набор питательных веществ. Профессор Патрикус из Швейцарии разработал замечательный рис, прозванный "золотым". Этот рис синтезирует витамин A. Четверть миллиарда народа страдает в Азии от дистрофии, слепнут, многие гибнут. Вы берете одну рисинку, сажаете и через год-два можете засеять четверть Таиланда. Внутри этой работы заложено знание, защищенное шестьюдесятью двумя патентами. Это и есть высокие биотехнологии для решения социальных проблем.
Голодающий третий мир можно накормить трансгенными растениями, которые способны и расти быстрее, и давать высокую урожайность. Китай сейчас демонстрирует самые высокие темпы прироста площадей, засеянных трансгенными растениями. Китайские селекционеры вывели такой сорт риса, у которого поверхность листьев в два раза больше обычного, что дает повышение урожайности на тридцать-сорок процентов. Это хорошо, но не достаточно.
Кстати, обратите внимание на довольно парадоксальную ситуацию: в Европе отторгают трансгенные растения (у них нет проблем с питанием), а вот генные лекарственные препараты глотают. Вот вы спросили перед интервью, трансгенное ли у меня на столе лежит яблоко. Если бы вы четыре дня не ели и два не пили, то вы бы без разговоров его слопали вместе с косточками и запили бы грязной водой из арыка. Но и сытый европеец понимает: если он после пересадки почек не будет принимать генно-инженерный эритропоэтин, то у него будут проблемы и надо себя спасать. То же с инсулином или гормоном роста. Ребенку, у которого нарушен рост, можно давать либо гормоны, извлеченные из гипофизов трупов, либо генно-инженерный препарат. Из трупов — мало сырья. Когда-то мы по всей стране собирали гипофизы трупов, на заводе в Каунасе выделяли гормон роста, посылали японцам, те дочищали и продавали для себя и для американцев. И дети-карлики вырастали до нормального роста. А сейчас этот гормон омолаживает кожу и прочее, эдакое чудо для пожилых людей.
— Вообще, складывается впечатление, что, чем больше лекарств создается, тем больше их требуется.
— Это точно, поэтому я и говорю, что биотехнологиям не грозят проблемы IT. Человек очень озабочен своим здоровьем. Вы можете заставить жить до восьмидесяти лет человека, который должен умереть в двадцать. Если у него не тяжелая форма рака, вы будете оперировать его каждый год, вставляя новые кости, кожу, клапаны в сердце, вынимая опухоли мозга и прочее. Во времена Спарты с тяжелобольными вопрос решался просто: сбросили со скалы — и привет. А ведь дело не в жестокости, а в здоровом прагматизме — чтобы больной не размножался. Мы гуманны, у нас все больные люди размножаются. При этом идет накопление генетических дефектов. И это лавинообразный процесс. Чем больше лекарств, тем больше болезней. И решить эту проблему на самом деле очень трудно.
Посмотрите, на Западе рождается масса технологий. Там огромные фармакологические компании, которые понимают, что в год они должны делать два-три новых лекарства, иначе им не выдержать того прессинга денег, которые они тратят на научные разработки. Но там же все доводится до конечного результата! Через некоторое время созданные лекарственные препараты выходят из-под патента, и эти дженерики уже в большом количестве делают в Китае, Малайзии и так далее. А мы не делаем! Мы покупаем у индусов и у китайцев. У нас фармакология сейчас имеет абсолютно бледный вид. Мы были второй страной в мире по производству антибиотиков после США. А теперь получаем дешевые лекарства из Китая и Индии. И это вопрос не только бизнеса, но и безопасности. Мы должны это делать сами. Десять лет не перевооружались заводы. Нужны какие-то жесткие движения, чтобы изменить структуру прикладных институтов, собрать их в крупные холдинги. Лучше сконцентрировать все в один кулак по каким-то важным направлениям и выстроить отношения с заводами, что тоже очень непросто. Иногда интересы не связываются. Если бы мы имели такие крупные компании, как, к примеру, "Мерк" или "Глаксо", которые покупали бы маленькие научные фирмы и дальше делали клинические испытания, тогда было бы здорово. Но "Мерков" у нас нет.
— Все же России как-то нужно себя позиционировать на рынке мирового биотеха.
— Да, нужно, причем четко. Мы должны понимать, что на западе у нас страны, у которых масса знаний, масса высоких технологий, хорошо упакованных, системно сделанных. А на востоке — страны, которые за плошку риса все это энергично и дешево внедряют. И сейчас все наблюдают за нами. Я думаю, что у нас сейчас больше всего шансов прорваться в сельском хозяйстве.
— Можете аргументировать?
— Сельское хозяйство — это супервозможности. Думал ли я пять лет назад, занимаясь структурой генома, что буду ходить по полям в кепке и с восторгом смотреть на клубни картошки? Однако, если понимаешь, что через несколько лет институт может с этого иметь минимум миллион долларов в год только на роялти, — это вдохновляет. В чем специфическая особенность сельского хозяйства? Аспирин — он что в Африке, что в Китае, что у нас аспирин. Можно завезти и глотать. А вот американская картошка в Воронежской области расти не будет. Она должна быть наша, родная. Поэтому тут есть пространство для маневра.
Американцы (компания "Монсанто") пришли сюда со своими двумя сортами генномодифицированной картошки. Мы им сказали: господа, вы сделали потрясающую вещь — устойчивость к колорадскому жуку, но кто будет ваш картофель покупать? У нас в России средняя температура минус пять, короткий световой день, и у нас сорта, созданные для наших климатических зон. Посмотрите, что продается на обычном рынке, — на нем треть занимает сорт "Невский". Есть еще "Луговской", "Елизавета" и другие.
Что мы сделали? Мы придумали свой оригинальный способ введения гена устойчивости к колорадскому жуку в наши сорта, который вовсе не означал механического переноса американской технологии. Теперь мы должны проверить их на биобезопасность, провести регистрацию и так далее. У нас есть несколько сотен линий, из них мы должны выбрать ту одну, которая будет абсолютно безопасной. И когда мы уже получим готовый сорт, к нам очередь выстроится. И это будет хороший бизнес.
— А откуда у вас уверенность, что в России все мгновенно бросятся покупать трансгенную картошку?
— Вы знаете, что мы ежегодно теряем два миллиарда долларов из-за колорадского жука? В этом году у нас вообще катастрофическая ситуация. У нас тут все телефоны обрывают — только давай. И мы этот бизнес точно сделаем. Мы ведем сейчас переговоры с несколькими сильными семеноводческими фирмами. Там нормальные люди, все правильно понимают. Мы им продадим лицензию на те сорта, которые принадлежат наполовину центру "Биоинженерия" РАН, наполовину "Монсанто". Дальше фирма начинает производить и, соответственно, платит нам роялти. Тут еще важно, что "Монсанто" обещала роялти оставлять в России для развития нашей науки.
— А вы не думаете, что этому бизнесу может помешать психология российских крестьян? У нас ведь не любят ежегодно покупать новые семена, предпочитают пользоваться тем, что у себя вырастили.
— Думаю, в конце концов люди подсчитают, что им выгоднее. Если вы купили фантастически чистые семена, а потом решили пару лет не покупать, то материал через два года уже будет заражен всякими вирусами. Картофель будет деградировать, и давать уже не десять клубней, а четыре или три. Поэтому для бизнеса никакой тревоги нет, важно правильно установить цену и не быть идиотом.
— Какие еще трансгенные культуры могут быть интересны для нашего биотехнологического бизнеса?
— Сейчас две консалтинговые фирмы делают для меня обзор по сахарной свекле. Рынок, производство, технологии — зачем это микробиологу, а? Но давайте подумаем о том, что сахар — это седьмой по величине поток денег в России. У нас две трети сахара производится из импортного сырца, и только одна треть из свеклы. Мы предлагаем сделать сахарную свеклу, устойчивую к гербицидам и вирусам. Вы эту сахарную свеклу поливаете гербицидами, когда она растет — сорняки гибнут. При этом вы в два раза меньше тратитесь на гербициды, а урожайность может выйти на сорок тонн с гектара (при нынешних шестнадцати тоннах). Если мы выходим на такую урожайность, то вытесняем сырец. Заводы-то сахарные принадлежат крупным компаниям, а уж они выгоду считать умеют.
В общем, если в фармакологии тут могут делать бизнес гигантские западные корпорации, то в сельском хозяйстве — извините. Вся сахарная свекла, картошка, пшеница, подсолнечник — наши, тут нужно работать с российскими сортами, и фирмы, имеющие патенты на устойчивость различных культур к тому или сему, должны будут с нами договариваться.
— Хороший пример, но частный. Чтобы инновационный процесс в России пошел полным ходом, нужно создавать национальную инновационную систему…
— Согласен. Мне, например, понравилась английская модель. Там есть известный Империал-колледж, научный институт, где работает восемнадцать нобелевских лауреатов и еще две с половиной тысячи ученых. Они получают один патент в неделю. И создают одну фирму в месяц. Как это устроено? Империал-колледж почти стопроцентно финансируется государством. И на эти деньги ученые творят. Империал-колледж создал фирму "Империал-колледж инновейшн", в нее передаются все патенты, кроме оборонных. И уже "Империал-колледж инновейшн" создает для каждого патента новую фирму. Пятьдесят процентов этой новой фирмы принадлежит "Империал-колледж инновейшн", а пятьдесят процентов — либо авторам технологии, либо менеджерам, которые заинтересованы, чтобы фирма работала. На стадии старт-апа эти фирмы поддерживает специально созданный правительственный фонд. Все фирмочки борются за то, чтобы получить первый миллион евро из этого фонда на раскрутку технологии. И когда они уже докручивают технологии, они становятся привлекательными для венчурных капиталистов или бизнес-ангелов. Проходит время, и фирма выходит либо на биржу, либо продается крупной компании. За пять лет в рамках этой системы было создано пятьдесят фирм, из них три проданы, две разместили IPO. Остальные готовят. В Кембридже и Оксфорде другие модели. Менее жесткие.
Сейчас обсуждается вопрос, кто в мире будет головой, кто руками, то есть, кто будет выдумывать, кто производить и прочее. Россия имеет фантастический научный потенциал, но это не вечно, еще пять-десять лет, и мы можем потерять его. Поэтому нужно срочно выстраивать систему.
— Нужно ли при этом делать кальку с англосаксонской системы?
— Не думаю. Мы ищем свой путь. В этом году Минпромнауки обявило конкурс по отбору инновационных проектов государственного значения, которые журналисты окрестили "мегапроектами". Сделано заявление, что экономика в России должна основываться на наукоемких технологиях. И сейчас очень важно, чтобы каждый из этих мегапроектов был успешным. Это большая ответственность. Иначе мы подведем очень большое дело, дискредитируем постулат, что в России можно эффективно создавать инновационную промышленность и иметь проекты, основанные на хай-теке. Что важно в этой инициативе Минпрома? Я вижу два положительных и новых момента. Первый — государство пробует взять на себя технологические риски, оставляя чисто коммерческие риски бизнесу. Вот, к примеру, наш проект с картошкой. Если мы просто возьмем природный ген, он никогда не будет давать растению необходимый уровень защиты от колорадского жука. Мы должны его полностью переделать. И на этом этапе есть риск технологический.
Второй положительный момент — в комиссии конкурса были собраны представители науки, капитала и бюрократии. Это правильная композиция.
— Не возникает ли у вас ощущения, что у нас есть дефицит инновационного предложения, что мало действительно классных проектов? — Не возникает. Вы не представляете, из какой мелочи можно сделать деньги, если есть система раскрутки. Езжайте в Италию, например, и посмотрите, как там в лаборатории три человека создают сенсор, потом маленький приборчик на его основе, который потом встраивают в новую модель "фиата". У нас же есть десятки разработок сенсоров и ни одного готового прибора, не говоря уж про "фиат"! Вот в моем институте точно есть десять-пятнадцать разработок, на базе которых можно было бы создать хорошенькие фирмы. Но у нас нет венчурного капитала, нет фондовой биржи, а есть полное непонимание ролей участников игры и неясность с интеллектуальной собственностью. — Кстати, об участниках игры. Не кажется ли вам, что у нас роль ученого сильно преувеличена?
— Абсолютно верно. Ученые оперируют цифрами в пятьдесят-шестьдесят процентов, хотя реальный вклад знаний в уже совершенное дело, когда уже есть собственное производство, реальная дистрибуция, проведены рекламные мероприятия и прочее, — это примерно десять процентов. Я думаю, что успех наших коллег за рубежом заключается еще и в том, что они не такие снобы, как "русские фундаменталисты". Многие годы наша наука была таким резервуаром, где ученые могли самовыражаться. Кончился Союз, кончились деньги, а снобизм остался. А на Западе ребята просто деньги зарабатывали. Все мои знакомые американцы, с которыми я начинал работать в США, уже давно мультимиллионеры — они сделали на основе своих ноу-хау просто фантастическую промышленность, целые подотрасли. Нужны чудовищные усилия для того, чтобы результаты биотехнологий не приносили денег. Так же, как надо прилагать чудовищные усилия, чтобы такая богатая страна, как Россия, была нищей.
— Откуда в России возьмутся инновационные капиталы?
— Может быть, деньги придут не от олигархов. У многих из них есть проблема — научное или околонаучное прошлое. На одной встрече все эти господа говорили, что не верят в инновационный бизнес. На что мы им ответили: вы, наверное, пробовали в начале своего пути заниматься хайтековским бизнесом, и у вас ничего не получилось. И теперь вы, будучи безумно успешными в других областях, не можете себе представить, что кто-то может быть успешнее вас в инновационной сфере. Сейчас в России появляется слой бизнес-ангелов, идет в хай-тек и средний бизнес. Полагаю, что часть денег придет даже из чулок… А что с ними делать, с деньгами-то? Раньше друг другу давали взаймы. Сначала по десять процентов в месяц, потом по пять процентов. А теперь что?
— А как вы относитесь к западным венчурным капиталам?
Очень хорошо отношусь. Я уверен, что нужно сотрудничать, но не теряя контроля над разработками. Стоит чуть-чуть взять у иностранцев, сразу русские дадут в два раза больше, у нас же нет пророка в своем отечестве. А в том, что русские инновационные деньги есть, я абсолютно убежден.