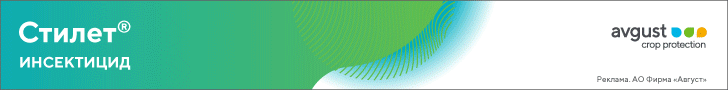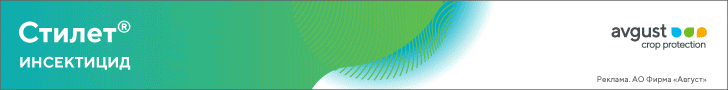Российские животноводы и птицеводы могут сэкономить миллиарды рублей на фураже для скота, уверяют ученые РГАУ МСХА имени Климента Тимирязева.
70% себестоимости животноводческой продукции составляют корма. И самая дорогая составляющая фуража — белковая. Бобовые растения – традиционный источник протеинов, соя – наиболее популярная и распространенная из них. Это великолепная культура, которая отвечает требованиям интенсивного животноводства. Но наш климат и почвенные условия не позволяют повсеместно получать высокие урожаи сои.
— По Центральному федеральному округу урожайность сои за последние годы составлял порядка десяти центнеров с гектара, — рассуждает заведующий лабораторией белого люпина РГАУ МСХ им. Тимирязева Александр Цыгуткин. — Это очень низкий урожай. Мы не сможем обеспечить все потребности животноводства в сое. И вынуждены сельхозтоваропроизводители закупать ее за границей. Ежегодно закупается порядка полумиллиона тонн соевого шрота. Но, со вступлением России в ВТО, конкурентная борьба будет усиливаться, и необходимо стоимость комбикормов снижать. Снижать можно только за счет того, что мы будем получать дешевые корма требуемого качества.
Сорт белого люпина, с которым работают специалисты Тимирязевки, способен решить эту задачу. Это единственное бобовое растение, урожайность которого в центральной полосе России может достигать шестидесяти центнеров с гектара. При этом азот оно фиксирует из воздуха, и нет необходимости в дополнительном удобрении, а фосфор из НЕ усваиваемых соединений делает доступным. Бобы люпина устойчивы к растрескиванию и расположены в верхней части растения, что существенно облегчает технологию уборки и избавляет урожай от потерь. То есть себестоимость килограмма люпина составит чуть более трех рублей.
— Средняя цена соевого шрота за последние годы находится в интервале 20 — 30 рублей, – отмечает далее Александр Цыгуткин. — То есть мы видим, что по экономическим параметрам белый люпин значительно превосходит сою. При этом по химическому составу люпин не уступает теплолюбивым соевым бобам, потому что и в люпине, и в сое содержание сырого протеина может доходить до сорока процентов. Однако при этом люпин не надо термически обрабатывать, поскольку он не содержит ингибиторов трипсина. Более того, если мы хотим улучшить корм, то мы можем довести содержание сырого протеина до пятидесяти процентов за счет снятия оболочки с зерна.
О высоких кормовых качествах белого люпина известно, в общем, уже довольно давно. Однако широко в производство он внедряется с большим трудом.
Крупные компании, пожалуй, пошли бы на то, чтобы заменять в рационах заокеанский соевый шрот доморощенным люпином. Но ведь на громадных животноводческих мегакомплексах потребность в фураже также выражается шестизначными цифрами. Производства такого количества ученые на опытных полях, конечно же, обеспечить не в силах. Думается, в такой ситуации на помощь энтузиастам, кричащим на всех перекрестках о том, что белый люпин – это культура, которая спасет будущее отечественной животноводческой отрасли, должно прийти государство.
Ведь при наличии такого доморощенного источника протеинов как люпин, становится, по меньшей мере, непонятным, зачем ввозить полмиллиона тонн импортного соевого шрота по тридцати рублей за кило, вместо того, чтобы произвести собственный, российский аналог, — но по три, — и сэкономить более десятка миллиардов рублей…
Может, и впрямь, пора начать мыслить инновационно, а не сетовать на высокую себестоимость фуража и низкую конкурентоспособность отечественного животноводства.